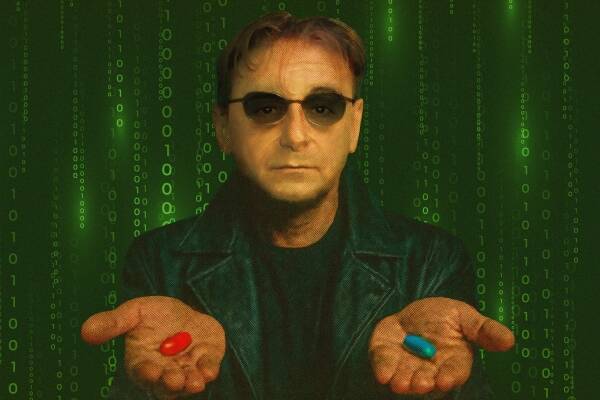«Дон Кихот» — первый постмодернистский роман
Конспект лекции Евгения Жаринова

«Без «Дон Кихота» вся последующая литература превратилась бы в макулатуру. С «Дон Кихота» начинается настоящий роман. Если бы не было «Дон Кихота», не было бы ни Достоевского, ни Толстого, ни Диккенса, ни Тургенева — и далее по списку, вплоть до постмодернистского романа».
Мы собрали для читателей самые важные моменты из лекции писателя и литературоведа Евгения Жаринова о романе Сервантеса «Дон Кихот».
Посмотреть полную запись лекции «„Дон Кихот“ — первый постмодернистский роман» можно в видеоархиве «Прямой речи».
➤ Идея о «Дон Кихоте» как первом постмодернистском романе принадлежит Хорхе Луису Борхесу, которого считают теоретиком постмодернизма. История постмодернизма начинается с Борхеса, а не с Ролана Барта и его статьи «Смерть автора». Барт был скорее популяризатором постмодернистской философии, но не изобретателем новых идей. Французский постмодернизм придал философскую основу и глубину этому направлению.
Жак Деррида в своем основном труде «О грамматологии» выдвинул парадоксальный принцип, что человечество сначала научилось читать, а потом писать. Эту идею Деррида заимствовал у Фридриха Ницше, который еще раньше утверждал, что мир представляет собой текст. Все, что нас окружает, является текстом, и эта тема была подхвачена семиотикой.
Семиотика — это учение о знаках и знаковых системах, и если слово — это знак, как утверждал Фердинанд де Соссюр, то любой предмет равен слову. Предмет несет определенный текст и что-то говорит. В этом плане мы живем в тексте, но это не привычный текст, написанный от руки, а текст окружающих нас предметов. Текстом является наша одежда, наши жесты. Архитектура — это текст, как показано в работе Дмитрия Лихачева «Поэзия садов и парков», где автор разбирает разные типы садов и сравнивает их с определенными литературными стилями.
➤ Еще одна идея Ницше из «Веселой науки» легла в основу постмодернистской парадигмы. Ницше сравнивает современного человека с Одиссеем, слышащим сладкозвучные пения сирен. Ранее люди воспринимали мир через написанное слово, через литературу, историю воспринимали по книгам, то теперь человек воспринимает мир не только рационально, но и через интуицию, мистику, мифологию. Литература лишилась трона всезнайства.
➤ У каждого постмодерниста своя тема. У Деррида — грамматология, у Мишеля Фуко — проблема дискурса. Дискурс — это речь, и в каждой речи, как в каждом языке, свои правила грамматики. По одним правилам грамматики — одна истина, по другим — другая. Сколько дискурсов, столько и истин. И литература — не истина в последней инстанции.
➤ В постмодернизме всё — игра (см. например книгу «Человек играющий» Йохана Хейзинги). Эрик Берн в книге «Игры, в которые играют люди» показывает, что игра входит в нашу психологию. Мы в своих отношениях играем. Сказки, которые нравятся детям, влезают в подкорку человека, и он потом всю жизнь проигрывает эту сказку. У Красной шапочки всегда должен быть свой Серый волк. Люди живут по принципу жизненного сценария, который задан им родителями (генетическими или не генетическими — друзьями, учителями и т.д.).
И последняя игра постмодернистской парадигмы — это апокалипсис.
➤ Деконструктивизм — это распад веры в абсолютную истину, веры в рациональность и веры в исторический прогресс. Ни к чему нельзя относиться серьезно. Это всё — ирония.
➤ Без «Дон Кихота» вся последующая литература превратилась бы в макулатуру. С «Дон Кихота» начинается настоящий роман — жанр, где сюжет перестает играть ведущую роль. Попробуйте найти сюжет «Улисса» Джойса или у Марселя Пруста в книге «В поисках утраченного времени». Роман погружает читателя в самое интересное: читатель сам становится частью романа, хотя там и не прописан. Роман имеет все шансы стать событием духовной жизни читателя.
Романы — это не когда «голова отправляется в отпуск». Они нужны для того, чтобы голова и душа начинали кипеть, чтобы выводить из зоны комфорта, чтобы роман стал частью снов, кошмаров, представлений о близких и о себе самом. Мишель Турнье (в книге «Полет вампира») пишет, что такие книги подобны вампирам — они мертвы до тех пор, пока вы не берете эту книгу с полки, и она становится вами, меняет вас.
Если бы не было «Дон Кихота», не было бы ни Достоевского, ни Толстого, ни Диккенса, ни Тургенева — и далее по списку, вплоть до постмодернистского романа.
➤ До «Дон Кихота» роман был в зачаточной форме — например, греческий роман (Лонг, «Дафнис и Хлоя»). Греческий роман — это рассказ «он-она», сводящийся к тому, что молодые влюблены, но разбойники их разъединяют, и в конце у них свадьба. Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет сказал, что вся классическая литература — это простая история Хуана и Марии. Мелодраматический сюжет «он и она» идет из глубин мифа. У китайцев это называется «инь и ян».
➤ Потом приходит эпоха Средних веков, и воплощением их становится рыцарь. Рыцарский роман был популярен. Роман «Дон Кихот» начинается с того, что Алонсо Кихано Добрый продает свою землю и скупает рыцарские романы (около ста штук). Каждая книга стоила дорого, на вес золота. Алонсо Кихано Добрый меняет землю, определяющую жизнь его и его рода, на книжки.
Он уходит в рыцарские романы с головой. Это и есть постмодернизм. Одна из основ постмодернизма — мир-симулякр, мир как иллюзия. Вместо того, чтобы жить землей, герой живет иллюзией рыцарских романов. Посвящение в рыцари, выбор дамы сердца и служение ей, сбрасывание с седла всех противников.
Рыцарский роман противоречит христианской истине, потому что речь идет о Прекрасной Даме — а это София, у Платона — «космическая душа». (Отсюда кстати «платоническая любовь» — любить ее, понимая, что она — существо высшего порядка). Бог — простой ремесленник, заточивший Софию в материальный мир. Материя — источник бед. Рыцарь находит в любой женщине свою Софию, но, освободив ее от материальных тенет, разрушает весь материальный мир. Это не дописано в рыцарских романах. Но Алонсо Кихано Добрый считывает это и сходит с ума. Но творить новый мир может только сумасшедший.
➤ Шкловский сказал, что Сервантес в старые мехи (рыцарский роман) заливает новое вино (новое содержание). В старой форме рождается новое содержание. Происходит великое открытие. Рождается подлинный роман, повлиявший и на реалистов, и на постмодернистов. Этот роман повлиял и на реалистов.
Вы увидите многое от Дон Кихота в «Князе Мышкине» и «Робинзоне Крузо». Пьер Безухов — это вариант Дон Кихота: нелепо одетый барин в зеленом фраке едет на Бородинское сражение, как Дон Кихот в шлеме для бритья.
➤ Это литературная мистификация или игра в автора. Автор есть — автора нет. Сам Сервантес постоянно отказывается от авторства своего романа. До него такого не было. Он будто немеет перед тем творением, которое ему открылось. Он хочет написать простую пародию, а пародия превращается в содержание, которое не мог осмыслить сам автор. Сервантес как будто сам отстраняется от этого текста.
Он бессознательно формирует мысль, что любое большое произведение больше своего создателя. Об этом потом точно скажет Лотман. Подлинный художественный текст живет своей жизнью и диктует автору. Знаменита фраза Пушкина, когда он приходит на светский раут и вдруг говорит: «Вы знаете, что сделала моя Татьяна? Она вышла замуж».
➤ Многие современники не воспринимали Сервантеса серьезно. Его оппоненты говорили, что он пишет для массы, ерунду какую-то. Считалось, что Сервантес написал роман, чтобы позлить Лопе де Вега, который в то время был самым популярным писателем и законодателем литературной моды. Потом начинают придираться к тому, что Сервантес не опрятен в своём тексте: путается в числах, обстоятельствах и пр.
Но Борхес говорит, что это первый роман, свободный от стилистической точности. Народ читал, интеллектуалы презирали. А потом этот роман все равно перешел из народной книги в высокохудожественную, потому что там идет фантастическая игра, создается гипертекст.
➤ С позиции реализма «Дон Кихота» очень точно оценил Достоевский. Достоевский писал, что если на страшном суде Господь спросит человечество, что оно сделало за всё время своего существования, человечеству надо молча подать роман «Дон Кихот» — и этого будет достаточно.
➤ Бахтин утверждал, что роман, благодаря и «Дон Кихоту» в том числе, открывает саму суть романного повествования — это не сюжет, а само СЛОВО. Главное — не «о чем», а «каким языком». Слово в романе превращается по Бахтину в многоголосицу. Это умение передать голос современников и будущих поколений.
Читайте также